Тоталитаризм, или величие лжи
автор: Лешек Колаковский
По плодам узнаете их
Законность понятия «тоталитаризм» время от времени ставится под сомнение. Дело в том, что модель тоталитарного общества нигде не была реализована до конца: ни в одном из государств, на которые обычно ссылаются как на образец такого общественного устройства (СССР, особенно при Сталине, гитлеровская Германия, Китай Мао Цзэдуна), не осуществлен идеал монолитной сплоченности руководства и ничем не ограниченной власти.
Это возражение нельзя считать серьезным. Все понимают, что для большинства понятий, описывающих общественно-политические явления широкого масштаба, в реальной жизни не может быть абсолютно точных соответствий. Капитализм тоже никогда не существовал в чистом виде, но это не мешает нам отличать капиталистическую экономику от докапиталистической и пользоваться всеми выгодами этой классификации. Полной свободы не бывает, однако деление обществ и государств на свободные и деспотические не становится от этого менее убедительным.
Если же говорить о тоталитаризме, то примеры, приведенные выше, куда ближе к своему идеальному прототипу, чем любое капиталистическое общество – к научному определению капитализма. (Пытаясь дезавуировать понятие тоталитарного строя, некоторые уверяли, что на самом деле в Советском Союзе существует плюралистическое общество, так как де и там есть группы, борющиеся за власть. Аргумент совершенно абсурдный. В таком случае все политические режимы, когда-либо существовавшие, были «плюралистичны».)
Возникновение государства, притязающего на неограниченный контроль над всеми сферами человеческой жизни, государства, которое ликвидирует гражданское общество и распространяет свою власть на все, что есть в стране, на каждого гражданина и каждую вещь, – невозможно объяснить какой-то одной причиной. Привлекательность власти – в ней самой, а не только в богатстве и привилегиях, которые она дает. Однако властолюбие, присущее людям, само по себе еще не объясняет феномен тоталитаризма. Тиранические режимы прошлого в большинстве своем не были тоталитарными, они не стремились контролировать все виды человеческой деятельности и превратить своих подданных целиком – физически и духовно – в собственность государства. Можно спорить о том, насколько применим термин «тоталитаризм» к тем или иным эпохам и странам, к Древнему Китаю, к царской России, к некоторым теократическим обществам или даже к первобытному строю; ясно, однако, что тоталитаризм в современном понимании этого слова неотделим от истории социалистических идей и социалистического движения. Разумеется, социализм и тоталитаризм – отнюдь не синонимы. Все классические типы тоталитаризма в Европе – русский большевизм, немецкий нацизм, итальянский фашизм – были скорее незаконнорожденными детьми социалистической традиции; и все же эти бастарды сохранили несомненное сходство со своими родителями.
Возникшая в начале XIX столетия социалистическая идея была ответом на социальные беды, порожденные промышленной революцией, – нищету и бесправие рабочего класса, кризисы, безработицу, общественное неравенство и алчность, сокрушающую все традиционные устои. Эти впечатления жизни подкреплялись настроениями, исходящими из кружков реакционных романтиков и теоретиков крепнущего национализма. Ядром социалистической идеологии оставалась, однако, «социальная справедливость» – представление, о котором никогда не существовало полного единства мнений. Социалисты всех направлений сходились на том, что общество должно взять на себя контроль над производством и распределением материальных благ (не обязательно с запрещением частной собственности и введением единой государственной экономики). Предполагалось, что общественный контроль обеспечит всем людям сытую и счастливую жизнь, устранит экономический хаос и расточительство, неслыханно поднимет производительность труда и ликвидирует «нетрудовые доходы» (еще одно понятие, так и не получившее удовлетворительного определения). Большинство адептов социализма отнюдь не придерживались тоталитарного образа мыслей; иные даже яро выступали за свободу и независимость духовной жизни.
И все-таки в «государственном» социализме – то есть в тех социалистических учениях, которые делали упор на государственную власть как гарант общественной справедливости и источник разумной экономической деятельности, – можно обнаружить зерна тоталитаризма. Едва родившись, марксизм еще в прошлом веке испытал атаки прежде всего со стороны анархистов, увидевших в нем проповедь беззастенчивой тирании государства. История, увы, убедила нас в справедливости этих обвинений. До поры до времени недемократическую природу марксова социализма маскировал компонент учения, созвучный духу XIX столетия, а ныне, как кажется, полностью дискредитированный, ибо он слишком напоминает стремление принять желаемое за действительность: компонент квазинаучной предопределенности, исторического детерминизма, заимствованный отчасти у Гегеля, отчасти у сен-симонистов. У деятелей Второго Интернационала вера в детерминизм была, с одной стороны, источником уверенности, что они владеют истиной, а с другой – предостерегала против насилия над историей. Отсюда возникло представление о социализме как результате постепенной эволюции общества; оно-то и легло в основу ортодоксально-центристской доктрины социал-демократии.
Двадцатый век принес с собой кризис социалистической идеи. Это выразилось, в частности, в том, что было выдвинуто утверждение – и нельзя сказать, чтобы уж совсем необоснованное, – что если полностью полагаться на «законы истории» и ждать, пока капитализм «экономически созреет» для революции, то с социалистическими надеждами придется попросту распрощаться. Появились социалисты, для которых высшими ценностями стали революционная воля и умение использовать политическую обстановку, удобную для захвата власти. Именно они стали духовными и политическими отцами двух тоталитарных разновидностей социализма – фашизма и большевизма (сходство идеологии Ленина и Муссолини весьма убедительно показал Д. Сеттембрини).
Обе доктрины тоталитарного социализма – националистическая и интернационалистическая – делали упор на общественный (читай: государственный) контроль над производством и потреблением. В этом отношении советская, китайская и родственные им модели оказались, конечно, гораздо последовательней, чем итальянский или немецкий вариант. В России была осуществлена тотальная национализация средств производства, распределения и информации, благодаря чему был заложен фундамент для Великого невозможного – всеобъемлющего планирования. Понятно, почему стопроцентная тоталитарная система возможна лишь в условиях социализма: она немыслима без всеохватывающего государственного контроля над экономикой. Но и после победы социалистической революции система эта утвердилась не сразу. Советский Союз, например, просуществовал 12 лет, прежде чем удалось превратить сельскохозяйственное производство и самих крестьян в государственную собственность. Фашизм в Италии и национал- социализм в Германии вообще не успели дожить до полной национализации экономики. С этой точки зрения они выглядят менее тоталитарными, ибо определенные секторы экономики еще сохраняли в этих странах относительную самостоятельность. Что, конечно, не значит, что они были «лучше»: в определенных отношениях нацизм был еще более варварским режимом, чем большевизм.
Так или иначе, но и там, и здесь всесильная идеология попрала идею социальной справедливости. Ведь она провозгласила право для некоторой избранной части человечества – высшей расы или нации, передового класса или партии – установить свою бесконтрольную власть. Право это предначертано якобы самой историей. В обоих случаях захват власти был совершен под лозунгами, апеллирующими к классовой ненависти и зависти. Зависть стала революционной силой. Ближайшей целью было уничтожение существующих элит – аристократической или бюрократической, плутократической или интеллектуальной, которые предстояло заменить – по принципу «из грязи в князи» – новым политическим классом. Нет надобности говорить о том, что лозунг равенства, если он и играл какую-то роль, не мог надолго пережить захват власти.
1. Ложь – это правда
Никакое современное общество не может существовать без законности – доказывать это значило бы ломиться в открытую дверь. Законность в тоталитарном государстве может быть только идеологической. Тотальная власть и тотальная идеология опутывают друг друга. При этом, однако, идеология тотальна в более строгом смысле; во всяком случае ее притязания про стираются намного дальше, чем стремления и цели какого бы то ни было религиозного вероучения. Она не только хочет охватить все сферы духовной жизни, не только непогрешима и общеобязательна. Идеология ставит перед собою цель (к счастью, недостижимую) господствовать над жизнью каждого человека до такой степени, чтобы фактически заменить собою личную жизнь, заменить индивидуальное мышление набором лозунгов. Другими словами, она хочет уничтожить частную жизнь. Это значительно больше предписаний любой религии.
Такая роль идеологии делает понятными и естественными особое назначение и специфическое значение лжи в тоталитарном государстве – функцию настолько своеобразную и творческую, что самое слово «ложь» кажется здесь каким-то неподобающим.
Принципиальная важность лжи в коммунистической тоталитарной системе была отмечена еще в начале тридцатых годов Анте Чилигой, бывшим членом компартии Югославии, а затем советским заключенным, автором книги «Страна большой лжи» (вышедшей, правда, лишь в 1938 г.). Однако понадобился гений Оруэлла, чтобы обозреть предмет с более общей точки зрения.
Чем занимается персонал Министерства Правды, где работает в 1984 году герой Оруэлла? Эти люди старательно уничтожают документальные свидетельства прошлого и печатают новые, исправленные издания старых журналов и газет. При этом они знают, что новая версия прошлого тоже не окончательная; скоро и ее придется переписывать. Цель – заставить народ забыть все на свете: умерших людей, слова, факты, географические названия. Как велики успехи в уничтожении памяти – не совсем ясно; но работа ведется всерьез и достигнутые результаты, во всяком случае, впечатляющи. Пусть не удалось пока добиться полной амнезии, зато есть надежда, что это в конце концов произойдет.
Давайте посмотрим, как выглядел бы такой идеал. Люди помнят только то, что их научили помнить сегодня; завтра, если понадобится, содержание их памяти будет полностью изменено. И они на самом деле верят, что то, что произошло позавчера и что было зафиксировано в их памяти вчера, по сегодняшним данным вовсе не происходило – вместо этого произошло что-то другое. Затем это «что-то» тоже упраздняется, и так далее. В итоге они перестают быть людьми. Сознание, по Бергсону, есть не что иное как память. Существо, чью память можно контролировать и произвольно менять извне, не является человеческой личностью.
Этого и хочет добиться тоталитарный режим. Люди, самое сознание которых, если можно так выразиться, национализировано, превращено в достояние государства, всецело находятся в руках своих правителей; они отчуждены от своего «я», беспомощны и, конечно же, не способны усомниться в том, что им навязывают в качестве непререкаемой истины. Они не мыслят, не творят, они пассивны и даже могут быть по-своему счастливы, могут искренне любить Большого Брата – цель, успешно достигнутая при перевоспитании оруэлловского героя Уинстона Смита.
Столь эффективное применение лжи любопытно не только с политической точки зрения, но и с точки зрения теории познания. Если следы минувших событий в виде документов и в человеческой памяти полностью уничтожены, то уже нет никакой возможности понять, что, собственно, представляет собой «истина», какой смысл вкладывается в это слово. Истину заменяет вера, которая, в свою очередь, завтра может быть отменена. Нет никакого практического критерия истины и лжи – между ними нет разницы. Поэтому ложь становится правдой. В этом можно усмотреть особый успех, достигаемый тоталитаризмом: этот строй нельзя обвинить во лжи, ибо он аннулировал самую идею истины.
Существует, таким образом, разница между обычной ложью политиков и ложью в тоталитарном государстве, где она обожествлена. Ложь всегда использовалась для политических целей. Но всевозможные передергивания, к которым прибегали и прибегают правительства, партии и отдельные лидеры, кажутся жалкой игрой по сравнению с царством лжи, каким является эта новая цивилизация, с ложью, которая составляет суть ее политической системы. Обычная политическая ложь есть средство для достижения конкретной цели, извлечения конкретной, вполне определенной выгоды. Она не посягает на принципиальное отличие правды от фальсификации. В истории Церкви, например, известно множество подделок и легенд, сфабрикованных ради определенных целей. Так называемый Константинов Дар, документ, на котором основывались притязания Рима на политическое господство, был фальшивкой. Его сфабриковали при папском дворе в конце восьмого века. Праздник Трех Королей (в которых были превращены евангельские волхвы) был тоже в некотором роде выдумкой, призванной подкрепить и освятить претензии Церкви на руководство светскими властями. Но Церковь не додумалась до того, чтобы переписывать Евангелие от Матфея, и любой человек мог заглянуть в текст и заметить, что там нигде не говорится о том, что мудрецы, явившиеся к младенцу, были монархами. Больше того: сама Церковь выдвинула историков, не только отвергших все разновидности pia fra us (лжи во спасение), но и ставших инициаторами критической проверки церковных документов. Может ли коммунизм похвастать такими историками?
Опустошительный эффект тоталитарной лжи обычно поддерживается примитивной социальной философией. Эта философия провозглашает, что «благо общества» выше интересов личности, и более того, самое бытие личности есть производное от общественного бытия; иначе говоря, существование личности самой по себе как бы недействительно. Лучшего обоснования для идеологии рабства невозможно придумать.
2. Язык новой цивилизации
Я говорил, конечно, об идеальном тоталитарном режиме. По отношению к нему реально существующие режимы – лишь более или менее похожие приближения. Весьма близким к идеалу был, в частности, поздний сталинизм. Успех сталинской системы состоял не только в том, что фальсифицировано было фактически все – история, статистика, современные явления и события, имена, портреты, карты, книги (в том числе и ленинские тексты). Неслыханный успех был одержан в особой дрессировке жителей страны, обученных различать, что является политически «правильным». В сознании партийных функционеров, да и не только функционеров, граница между «правильным» и подлинным стерлась: без конца повторяя один и тот же вздор, они, наконец, сами уверовали в него. Коррупция языка, глубокая и всесторонняя, породила, в конечном счете, людей, не способных осознать собственную лживость.
Это мышление по большей части сохранилось и по сей день, несмотря на то, что могущество идеологии в последнее время не сколько поубавилось. Когда советские руководители заявляют, что они освободили Афганистан, или когда они уверяют нас, что в Советском Союзе нет политических заключенных, – кто знает, может быть, они и верят в это: привычка к словесной акробатике развилась у них до такой степени, что они попросту неспособны подыскать для советской интервенции какое-нибудь другое слово, кроме «освобождения», и, вероятно, даже не догадываются о том, сколь огромна дистанция между их языком и действительностью. К тому же цинизм требует мужества, которого у них нет; люди, лгущие самим себе, встречаются чаще, чем стопроцентные циники.
Позволю себе рассказать одну непритязательную историю. В1950 г. я побывал вместе с несколькими польскими друзьями в ленинградском Эрмитаже. Нашим экскурсоводом был, если не ошибаюсь, заместитель директора музея – вне всякого сомнения, хороший знаток истории искусств. Между прочим, он сказал нам следующее: «В наших запасниках есть очень много картин декадентских живописцев, представителей продажного и загнивающего буржуазного искусства. Вы знаете, о ком я говорю: все эти матиссы, сезанны, браки и прочие. Мы никогда их не выставляли, но, может быть, когда-нибудь покажем, чтобы советские люди могли убедиться, как низко пало искусство буржуазного Запада. В конце концов, товарищ Сталин учит нас не приукрашивать историю». Через семь лет, во время оттепели, я снова оказался в Эрмитаже, и снова нас сопровождал тот же человек. Мы остановились в одном из французских залов, и он сказал: «Сейчас вы увидите шедевры великих французских художников – Матисса, Сезанна, Брака и других». Потом он добавил: «Буржуазная пресса клевещет на нас, утверждая, будто мы не выставляем эти картины. Как вы думаете, что послужило поводом для этих смехотворных обвинений? То, что иностранные журналисты оказались здесь именно в тот момент, когда некоторые залы были временно закрыты на ремонт!».
Лгал ли он сознательно? Боюсь, что нет. Если бы я напомнил ему его прежние слова (чего я не сделал), он и меня, чего доброго, обвинил бы в клевете и думал бы, что говорит «правильно», а значит, говорит правду. Потому что в том мире, где он живет, правда есть все то, что способствует правому делу.
До тех пор, пока ложь остается тактическим приемом, пока она используется для конкретной надобности, она неинтересна. Министр клянется, что он не спал с девицей X., хотя все знают, что он был ее любовником; президент был информирован о действиях своих помощников, но утверждает, что ничего не знал. Ничего загадочного нет в этих фактах, они – довольно заурядное явление в политическом мире. Совсем другое дело – ложь в тоталитарной системе, где она не просто практикуется чаще и в более широких масштабах, но выполняет совершенно особую социальную, психологическую и, если хотите, философскую функцию. Было бы упрощением думать, что лживость советской прессы – это лишь гипертрофированная, но, в принципе, все та же известная нам политическая ложь. Спору нет, если вам захочется коллекционировать образчики политической лжи, любой номер «Правды» или «Известий» даст вам предостаточно материала. На каждой странице вы обнаружите сколько угодно грубейшей неправды, сознательных умолчаний и передержек; назначение этих уловок в каждом случае очевидно. Но они приобретают особый интерес и особый смысл, если рассматривать их в контексте всей системы воспитания, высшая цель которой – построение Новой Цивилизации.
Существенная черта этой системы, как уже сказано, – стирание границы, уничтожение разницы между правдой и политической «правильностью». Внушая людям уверенность, что ничто не истинно само по себе, но все можно превратить в истину по указанию свыше, система пестует нового человека – «гражданина социалистического общества». Этот гражданин лишен воли, освобожден от моральной ответственности, отчужден от социального и исторического самосознания. Забвение истории – вот что решает дело. Люди должны перестать удивляться тому, что история перекраивается от одной «правды» к следующей. Это значит, что источник самоутверждения – коллективное прошлое – для них закрыт. Не то чтобы преподавание истории вовсе прекращено, даже наоборот (хотя, судя по всему, в маоистском Китае история действительно не преподавалась; были запрещены вообще все книги, кроме трудов Мао и научно-технической литературы). Но все, что изучается, есть одновременно «объективная истина» и вместе с тем истина, актуальная лишь сегодня. Сегодняшние правители – единственные хозяева прошлого. Привыкнув к этому порядку, социалистические «граждане» попросту избавляются от исторического самосознания и могут самоопределиться лишь в отношении к государству. В этом государстве люди – уже не личности, народ – не народ.
3. Непокорная действительность
Подобная стерилизация общества, однако, опасна. Пока от подданных тоталитарного государства требуется нормальное пассивное послушание – все хорошо. Когда же наступает кризис и нужны внутренние стимулы активности и ответственности, машина начинает буксовать. В таком положении оказался советский режим, когда на страну напала Германия, и единственным способом поднять народ на врага было забыть марксизм-ленинизм и мобилизовать исконно русские исторические символы и национальные чувства. Тоталитарный режим силен в относительно стабильных условиях, но уязвим в критические минуты. Вот почему, между прочим, невозможно создать идеальный тоталитарный режим («высшую стадию социализма»).
Осуществить золотую мечту тоталитаризма – всеобщее беспрекословное повиновение и абсолютный контроль над человеческой памятью – не удается и по другим причинам. Память неподатлива, а человек, по-видимому, представляет собой нечто онтологически первичное. Вы можете его парализовать силой; но он всегда будет стремиться вернуть свои суверенные права. В условиях, самых благоприятных для тоталитарного господства, невозможно добиться полного забывания: для этого понадобилось бы слишком много фальсификаторов, по необходимости умеющих отличать то, что было на самом деле, от выдуманного. Это то же самое, как если бы военно-картографическому бюро было приказано вычерчивать фальшивые карты: не имея под рукой настоящих карт, нельзя делать ложные. Власть слов над действительностью кажется безграничной, но лишь кажется: ибо действительность навязывает свои непреложные условия. Для самих себя тоталитарные правители хотели бы иметь надежную информацию, но время от времени они неизбежно попадают в силки собственной лжи. Запутавшись в паутине, которую они сами же сплели, они вынуждены каким-то образом согласовать потребность в правде для себя с системой, автоматически продуцирующей ложь для всеобщего потребления, в том числе и для самих сочинителей.
Короче говоря: так как тоталитаризм стремится к полному контролю государства над всеми областями жизни и к неограниченному господству искусственной идеологии над умами, добиться этого можно лишь подавив сопротивление реальности, физической и духовной, другими словами – отменив реальность. Поэтому, говоря о тоталитарных режимах, мы не имеем в виду системы, достигшие совершенства, – как во всех человеческих делах, совершенство и здесь недостижимо, – а скорее стремящиеся к совершенству с настойчивостью, которой не видно конца. В этом смысле все режимы советского образца были тоталитарными, хотя и оказались в разной степени близости от «сияющих вершин».
4. Польский прогноз
Можно отметить, что в коммунистических государствах Центральной и Восточной Европы это расстояние, отделяющее действительность от идеала, всегда было длинней, чем в метрополии. С одной стороны, тоталитаризм в вассальных странах никогда не мог равняться с советским, а с другой стороны, в самом Советском Союзе наблюдалось обратное движение – отход от тоталитарного совершенства. Разумеется, такие констатации требуют большой осторожности.
Медленное, но несомненное движение вспять не связано ни с ослаблением тоталитарной воли внутри системы, ни с демократизацией режима. Отступление лишь означает, что непобедимая действительность вырвала определенные уступки у правящей верхушки. По понятным причинам тоталитарное государство фатальным образом неспособно наладить у себя эффективную экономику. Поэтому все попытки реформ в коммунистических странах, если они вообще сколько-нибудь осуществимы, происходят в одном направлении – оживить рынок. Иначе говоря, речь идет о частичной – и, само собой, минимальной – реставрации капитализма. Идеология доказала свою разрушительную силу во многих областях; значит, ее власть приходится ограничить. Наступает кризис законности (как мы уже сказали, законность в тоталитарной стране носит чисто идеологический характер), начинаются отчаянные поиски идеологического обоснования самих этих ограничений. От этого идеология становится все менее последовательной и все более абсурдной.
Все это, казалось бы, говорит о коррозии, которая медленно, но верно должна привести тоталитарный режим к чудесному преображению в «открытое общество». К сожалению, никаких прецедентов, оправдывающих такой прогноз, нет. Реальное положение дел таково, что до тех пор, пока на территориях, контролируемых Советским Союзом, сохраняется тоталитарный порядок, мощно поддерживаемый интересами привилегированных верхов, никакой или почти никакой надежды на прогресс не остается. Ссылки на Испанию или Португалию неубедительны: эти страны находятся в другом международном окружении, да и режимы, которые там были, всегда были все-таки слишком далеки от тоталитарного совершенства. Дадим на минутку волю своей фантазии и представим себе, что советский режим превратился во что-то похожее на франкистскую Испанию последних десяти лет; как реагировал бы на это просвещенный и либеральный Запад? Он прославлял бы такой поворот событий как величайший триумф демократии со времен Перикла! И, пожалуй, даже усмотрел бы в этом доказательство превосходства «социалистической демократии» над буржуазной.
И все же относительно ненасильственное крушение тоталитаризма нельзя полностью исключить. Какую-то надежду на это внушали события в Польше в начале 80-х годов. Среди всех советских вассалов Польша, безусловно, была наименее последовательна в движении к тотальному идеалу – несмотря на все эксцессы сталинизма. Лично я убежден, что в первые послевоенные годы идейные коммунисты (еще существовавшие в то время) были в Польше еще более несгибаемыми и более циничными, чем в других странах, – циничными в том смысле, что обладали наименьшей чувствительностью ко лжи. Они знали, что партия внушает «массам» чистейшую ложь, но свято верили, что эта ложь допустима и даже необходима – во имя счастливого будущего. При этом, однако, вопреки всем усилиям правителей и несмотря на засилье лжи, непрерывность польской культурной традиции не была нарушена. Малейшего ослабления политического гнета было достаточно, чтобы историческое самосознание прорвалось вновь, демонстрируя абсолютную несопрягаемость коммунизма с традиционно-национальными религиозными и политическими представлениями. Книги по истории, напечатанные ли в Польше (и не задетые официальной ложью) или привезенные из-за границы, пользовались в стране огромной популярностью, и притом не только среди интеллигенции.
Одно время казалось, что «Солидарность» распахнула врата нового будущего – что тоталитарный строй постепенно преобразуется в некоторую гибридную формацию, допускающую элементы плюрализма. Военная диктатура почти свела на нет и эту надежду. Но уже тот факт, что тоталитаризм даже не пытается больше отстаивать свою законность, но вынужден предстать без идеологического грима как открытое насилие над людьми, – свидетельствует о деградации тоталитарной системы.
Перевод с немецкого Бориса Хазанова
Напечатано в альманахе «Вторая навигация», выпуск 15, составитель М.А.Блюменкранц. – Харьков: ООО «Издательство "Права человека"», 2018. – 304 с.
Другие публикации Лешека Колаковского и о нем на русском языке
Лешек Колаковский. Судьба людей — общая. Новая Польша 1/2004
«Вы намерены обсуждать вопрос о терпимости и ее пределах, а также заняться ликвидацией проявлений расовой либо этнической ненависти, которые создает человеческая глупость, темнота и подлость. Мне очень нравится задуманное вами дело, и, конечно, я поддерживаю его безоговорочно.
Как все мы знаем, неприязнь, подозрительность и, в конечном счете, ненависть ко всему чуждому и ко всем чужакам — такое явление, которое сопровождает историю человечества с незапамятных времен, притом можно оказаться «чужаком» по разным причинам: другой религии, другого языка, другой национальности, другого цвета кожи. Но история учит нас не только тому, что вражда к чужакам заурядна, исторически укоренена и зачастую ведет к самым страшным преступлениям, но и тому, что с нею можно успешно бороться, если есть настоящая готовность это делать…»
Лешек Колаковский. О СПРАВЕДЛИВОСТИ. – Новая Польша 7-8/2001
«…Существуют такие связи между людьми, которые не регулируются правовыми установлениями (хотя сегодня государства стремятся все больше и больше расширить сферу действия права), но в которых находит себе применение идея справедливости. Вне сомнения, идея справедливости не может требовать, чтобы я относился ко всем людям одинаково, никак не выделяя близких, друзей, любимых. Но мы считаем неправильным, чтобы судья или присяжный заседатель участвовал в процессе, где на скамье подсудимых сидит его брат, или чтобы профессор принимал экзамен у собственной дочери. Иначе говоря, мы предполагаем (по-видимому, не без оснований), что каждого можно заподозрить в том, что он при возможности предоставит людям, к которым неравнодушен, не полагающиеся им привилегии.
Но если мировой дух на самом деле чего-то от нас ожидает, то вовсе не справедливости, а доброжелательного отношения к ближним, дружбы и милосердия, то есть таких качеств, которые никак из справедливости не вытекают…»
Лешек Колаковский. Право на правду. Речь на открытии Всемирного конкресса ПЕН-клуба – Новая Польша 1/1999
«Я думаю о двух, достаточно очевидных истинах, о которых – я уверен – все мы знаем. Одна гласит, что свобода слова - это необходимое и основополагающее условие всех гражданских свобод. Когда ее отнимают, вскоре отнимут, по всей вероятности, и все остальное. В соответствии со второй из этих истин, свобода слова неизбежно ведет к свободе лжи, клеветы, абсурда, пропаганде ненависти, слепого фанатизма, идеологии, которая приводит к геноциду, к недопустимому вторжению в частную жизнь других людей. Иначе говоря, известно, что свобода всегда влечет за собой издержки, иногда очень высокие, подчас ужасающие…»
О нем
Ежи Помяновский. Памяти Лешека Колаковского – Новая Польша 9/2009
Войцех Карпинский. Лешек Колаковский: набросок к портрету – журнал «Новая Польша» 9/2012)
Эльжбета Савицкая. Дьявольские проделки (Публикация включает фрагменты интервью с Лешеком Колаковским 1994 г.) – Новая Польша 2/2016
Рекомендувати цей матеріал
 Архів
Архів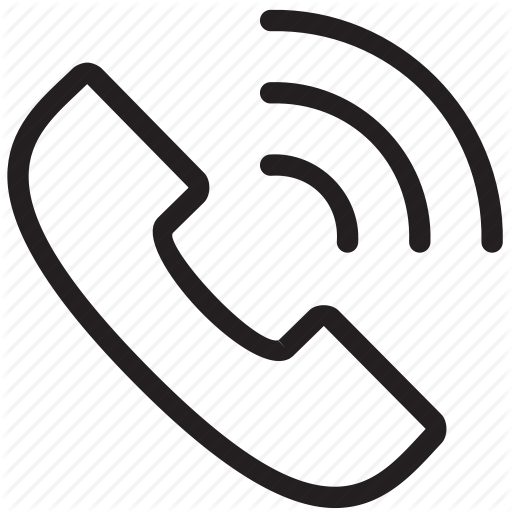 Контакти
Контакти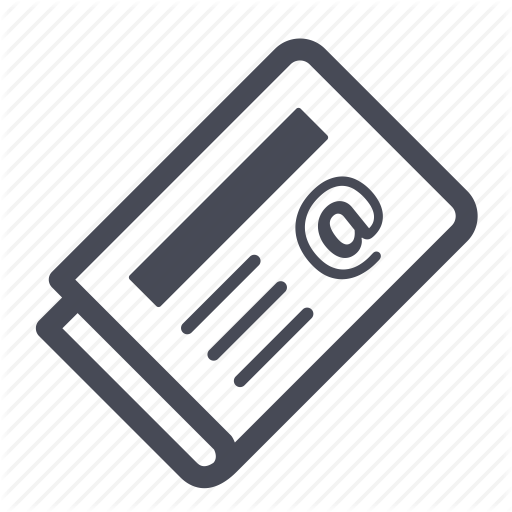 Поштова розсилка
Поштова розсилка



